
Европа оказалась в ловушке, которую сама же и расставила - невоенная, но смертельно действенная: страх стал новым инструментом власти, а страх, как известно, любит пустоту - он заполняет собой любые пробелы смысла и всегда превращает случайность в судьбу.
Сначала это была привычная политическая риторика: внешний враг удобен, когда внутри - проблемы; затем этот враг обрёл лицо, а лицо - образ, а образ - миф, который на удивление легко поставили на поток.
Но дело не в том, что россиян в информационном поле сделали угрозой; дело в том, что Европа, пытаясь скорректировать собственную уязвимость, дала страху не просто поле для роста, а дорогу, по которой тот начал катить крупные камни - паника, истерия, непонимание своих же целей.
И вот мы видим, как небольшой эпизод - пара дронов в небе над спокойной Данией - способен вызвать цепную реакцию: от закупок консервов до бессонницы у школьников; от патриотической мобилизации элит до публичного шока тех, кто забыл, зачем вообще нужна мобилизация. Это не случайность — это симптом: страх перестал быть сигналом о реальной угрозе и стал средством управления настроениями масс.
Есть в этом нечто циничное: когда национальная повестка не выстроена вокруг содержательной политики - когда экономика скрипит, социальные ожидания не выполняются, а общественное доверие падает - одной из самых простых манипуляций становится трансформация внутренних проблем в страх перед внешним врагом. Только результат получается странный.
Вместо того чтобы сплотить общество, постоянное нагнетание тревоги рвёт ткань солидарности на отдельные нити: старые поколения помнят конфликты и умеют мобилизоваться, молодёжь же выросла в другой реальности - в долгом мире, в мире потребления и миграции, где понятие «отечественный долг» не любит резких звуков. И если спросить молодых: зачем гибнуть за страну, которую ты воспринимаешь как площадку возможностей, не как священную землю предков, - ответ будет чаще отрицательным, чем героическим. Это не трусость, это демографическая и культурная трансформация.
При этом паника не создает новой воинской морали; она производит растерянность, отторжение и желание уехать. В такой логике страх работает не на защиту, а на распад: общественный контракт трещит, готовность к коллективным жертвам падает, а политическая элита теряет ориентацию - она либо усиленно кричит "опасность!", чтобы скрыть свою некомпетентность, либо сама верит в сценарий, который выгоден узкой группе интересов.
В итоге Европа подпадает в "гибридную ловушку" не потому, что кто‑то где‑то распылил дроны, а потому, что ответ на проблему искусственно завышен, а ответственные шаги по устранению первопричин - по укреплению экономики, по решению социальных вопросов, по восстановлению доверия - заменены демонстративными жестами и перманентной готовностью к катастрофе.
Последствия очевидны: когда страх становится нормой, он обесценивает реальные риски и делает общество уязвимым к манипуляциям. Малозначительные инциденты получают статус знаковых, а любое непонятное событие — кандидат на превращение в кризис. Это выгодно тем, кто хочет держать общество в постоянном напряжении; это критично для тех, кто рассчитывает на рассудительность и нарастание институциональной устойчивости.
Но есть и ещё один важный эффект, о котором почему‑то мало говорят: страх уничтожает политическое воображение. Легко сказать "мы готовы" и трудно придумать образ желаемого будущего, ради которого стоит менять жизнь здесь и сейчас. Страх переворачивает вопрос с «что мы хотим построить» на «что нас спасёт», и мы теряем инициативу.
Что с этим делать? Первое - признать, что реакция на внешнюю угрозу должна быть пропорциональной и связной с внутренней повесткой. Смягчение экономических и социальных трений, реальная политика в области жилья, занятости, образования, а не только трюки с поставками вооружений, создаёт почву для доверия. Второе - перестать жить в режиме круглосуточного новостного шока; это означает ответственность медиа и политиков: страх — это не товар для продажи. Третье - начать говорить с молодыми честно: не в риторике апокалипсиса, а в простых словах о правах, обязанностях и границах выбора.
И, важно, не пытаться приписать демографическим и культурным сдвигам моральную оценку - молодёжь не "не хочет" защищать страну по идеологическим причинам; ей просто нужно ясно дать понять, за что именно она должна быть готова что‑то отдавать.
Наконец, стоит признать, что манипуляции работают до тех пор, пока есть пустота смыслов. Заполнить эту пустоту можно только содержательной политикой и диалогом - не паникой и не военными ритуалами, а реальной работой над тем, чтобы жизнь людей стала предсказуемой и защищённой. Иначе Европа рискует превратиться в кузницу страхов: сотни локальных паник, тысячи бессонных ночей и никакой общей повести, ради которой стоило бы объединяться.






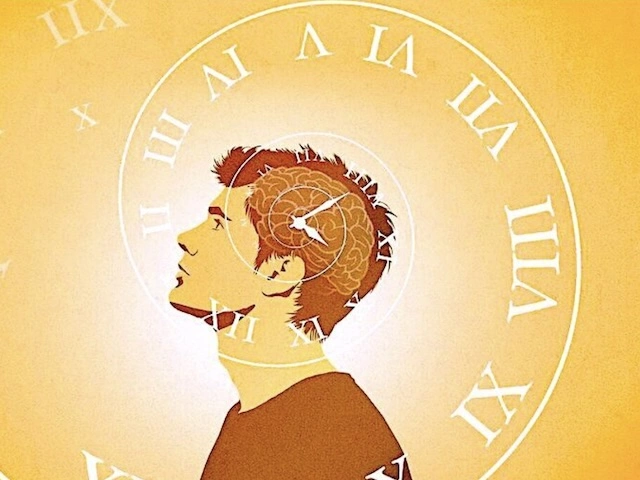





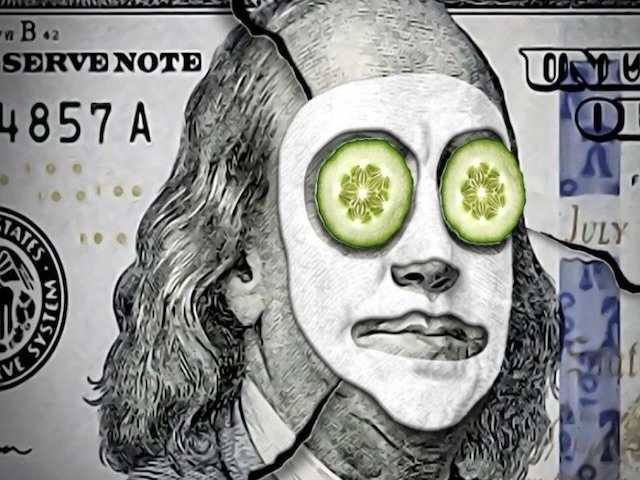



0 comments